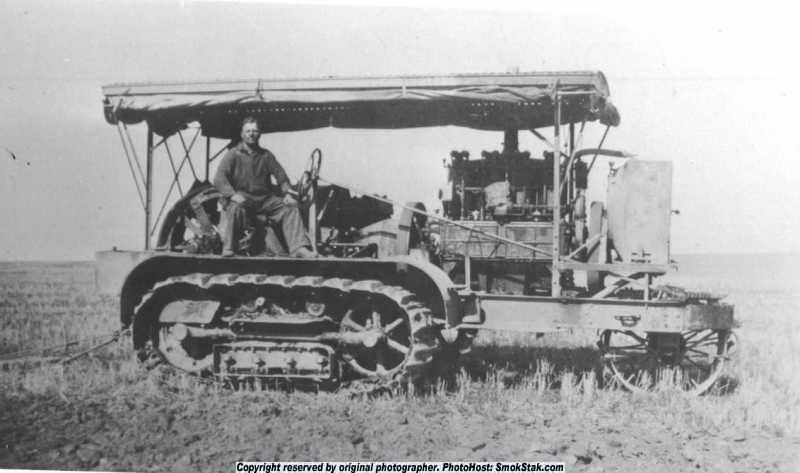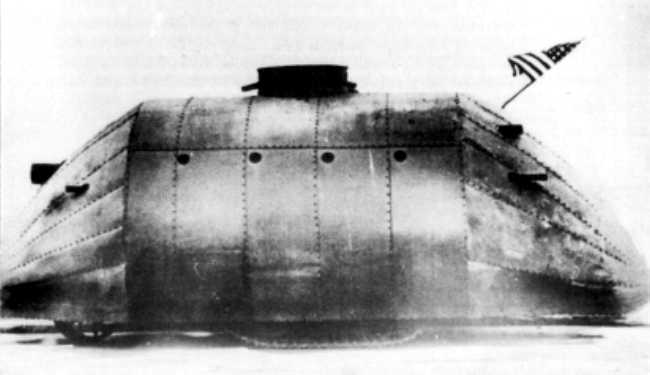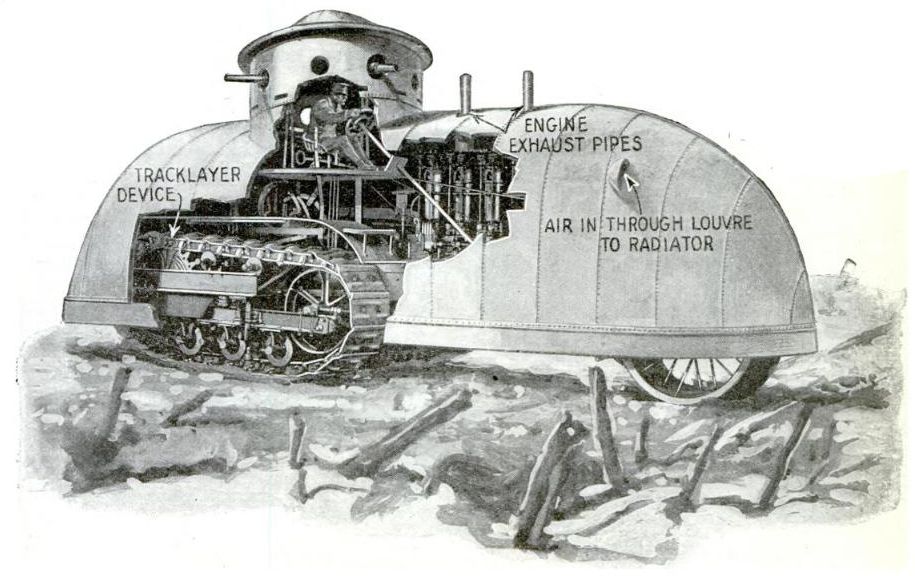[1387 г.] После официального крещения Ягайло запретил литовцам брак по православным обрядам и указал, что политические права сохраняются только за католиками.
[1413 г.] Городельская уния носила явно католический характер. Русские князья и бояре Великого княжества Литовского как православные «схизматики» по новому закону не допускались к высшим должностям, к участию в совете великого князя и решении важнейших государственных вопросов. На воеводства в земли Полоцкую и Витебскую, Киевскую и Подольскую назначались только люди, проникнутые духом воинствующего католицизма, что вызывало национальную вражду в государстве.
История Литовской ССР. Вильнюс, 1978. С. 54, 60
Заключение польско-литовской унии 1385-1386 гг. открывало собой следующую страницу в политической истории Восточной Европы… Существовавшему ранее сотрудничеству литовских и русских феодалов, основанному на стремлении содействовать упрочению и расширению их общего государства, на поддержании сословного равноправия русской и литовской феодальной знати, теперь был противопоставлен насаждаемый сверху антагонизм католической Литвы и православной Руси. Предоставление в 1387 г. литовским феодалам-католикам бóльших прав и привилегий по сравнению с феодалами русскими привело к тому, что обе группы господствующего класса Литовско-Русского государства действительно оказались противопоставленными друг другу по религиозной и сословно-правовой линиям. Эта тактика искусственного насаждения неравноправия обеих групп феодалов, естественно, приводила к сужению фронта их сотрудничества, к постепенному разобщению этих двух частей Литовско-Русского государства, а в дальнейшем к более легкому их поглощению феодальной Польшей.
В сущности, польские феодалы почти сразу после акта 1385-1386 гг. приступили к осуществлению этой программы освоения двух изолированных частей одного целого. Если собственно Литва осваивалась с помощью предоставления особых привилегий литовским феодалам-католикам, русские удельные княжества Литовско-Русского государства закреплялись за польской короной не только с помощью посылаемых туда польских гарнизонов и верных Ягайло князей, но и с помощью ряда особых политических мер, в частности присяг.
В сентябре 1413 г. в Городло прибыли Ягайло вместе с представителями польской феодальной знати, а также Витовт, сопровождаемый представителями литовских феодалов. 2 октября 1413 г. были подписаны три документа. Первым была грамота Ягайло и Витовта, фиксировавшая главные положения унии, вторым документом была грамота польских панов, третьим – соответствующая грамота панов литовских. В этих документах подтверждалось объединение обоих государств, предполагавшее как проведение ими общей внешней политики, так и дальнейшую «унификацию» их внутриполитической жизни, а вместе с тем и дальнейшее подчинение великого княжества Литовского феодальной Польше.
Речь шла не только об установлении контроля польского правительства над политической деятельностью Витовта и его будущих преемников (само «избрание» нового литовского князя объявлялось невозможным без санкции польского короля), но также и о проведении целой системы мероприятий, имевших целью сначала «расщепление» феодалов великого княжества Литовского на католиков и православных, а потом превращение окатоличенного литовско-русского боярства в полонизированную часть господствующего класса польско-литовского государства.
Городельские грамоты не только заменили старый термин «литовские бояре» новым термином «бароны и нобили», но и декларировали порядок назначения на государственные должности, распоряжения земельными владениями, заключения браков и т.д. Согласно этим грамотам, лишь те литовские феодалы могли занимать должности и прочно удерживать в своих руках владения в княжестве, которые являлись католиками, имели отношение к польским гербам и находились в браке с католичками (браки с православными запрещались).
И.Б. Греков. Восточная Европа и упадок Золотой Орды. М., 1975. С. 182-183, 286
Установившимся после Городельской унии порядком не могли быть довольны многочисленные русские князья и бояре великого княжества. Как православные, схизматики, они по новому закону не допускались до занятия высших должностей в государстве, до участия в совете великого князя и в решении важнейших государственных вопросов, близко затрагивавших интересы не только Литвы, но и всех других земель великого княжества. На основании Городельского привилея русские люди устранялись даже и от избрания великих князей, которое должно было производиться высшим католическим боярством Литвы с ведома и с совета польских прелатов, панов и шляхты. Русские князья и бояре не получили ни имущественных, ни личных гарантий, ни тех льгот в податях и повинностях, какие получили литовские бояре. Воинствующий католицизм воздвиг целую стену между литовским боярством и русскими, пробудил национальную вражду к Литве, которой не замечалось прежде. В 1387 г. 22 февраля новообращенный Ягайло издал указ, коим предписывалось всем литовцам знатного рода, проживающим на Литве и Руси, принимать католическую веру и запрещалось вступать в брак с русскими, которые не пожелают перейти в католическую веру. Русский или русская, вступившие в брак с литовцами, обязывались непременно переходить в католическую веру под страхом телесных наказаний. Конечно, такой указ не мог не породить горького чувства в православном населении великого княжества.
Так, когда король Сигизмунд в 1522 г. назначил православного русского князя Константина Ивановича Острожского воеводою Троцким и дал ему первое место «в лавице» господарской рады, литовские паны протестовали против этого назначения, ссылаясь на то, что по Городельскому привилею такие высокие должности на Литве, как воеводства, каштелянства, должны предоставляться обязательно католикам, не схизматикам. И король должен был обещать, что этот случай не будет прецедентом для будущего, и впредь подобные уряды и достоинства не будут даваться русским без совета старших панов рады, но только литовцам римской католической веры.
Совершенно особое и исключительное положение занимали в господарских местах евреи, расселившиеся в них из Польши. Положение это определено было грамотами Витовта, которые подтверждались затем его преемниками на великом княжении. В общем евреям даны были не только личные и имущественные обеспечения, но и значительные преимущества перед мещанами-туземцами. За убийство еврея грамоты полагали смертную казнь и конфискацию имущества; за нанесение ран и побоев еврею – штраф в пользу великого князя и вознаграждение потерпевшему в том же размере, в каком полагалось шляхтичу.
В XVI в. евреи заполонили чуть не все города Великого княжества Литовского. Общины их, или «жидовские зборы», кроме упоминавшихся уже городов, видим в Новгородке, Слониме, Мстибогове, Клецке, Пинске, Кобрине, в Полоцке, Витебске, Остроге, Турце и т.д. распространение евреев и их экономическое засилье вызвало уже в половине XVI в. сильное раздражение в литовско-русском обществе. «В эту страну, – писал Михалон Литвин, – собрался отовсюду самый дурной из всех народов – иудейский… народ вероломный, хитрый, вредный. Он портит наши товары, подделывает деньги, печати, на всех рынках отнимает у христиан средства к жизни, не знает другого искусства, кроме обмана и клеветы». Еще резче писал об евреях современный поэт Кленович в поэме «Roxolania»: «Ты спросишь, что делает жид в твоем главном городе? А то же, что делает волк, попавший в полную овчарню. Посредством долгов к нему попадают в заклад целые города; он утесняет их процентами и сеет нищету. Червь медленно точит дерево и понемногу съедает дуб. От моли погибают ткани, от ржавчины портится железо. Так жид-тунеядец съедает частное имущество, истощает общественные богатства. Даже казна государственная не безопасна от его изворотов».
В интимных отношениях с еврейством по этой части стояли богатые литовские паны, пускавшие через евреев в оборот свои сбережения и потому обыкновенно им покровительствовавшие. Евреи сумели стать необходимыми как для великого князя, так и для литовско-русского панства, как финансовые дельцы, умевшие ковать деньгу. Один из таких дельцов, Аврам Езофович, сделался при великом князе Александре подскарбием земским, т.е. министром финансов.
М.К. Любавский. Очерк истории литовско-русского государства до Люблинской унии включительно. СПб., 2004, C. 91, 106, 135-139
Привилей 1413 г. является дополнением к первому привилею Ягайлы… Пользование его благами связывалось с принадлежностью к католическому вероисповеданию. Привилей устанавливал должности по польскому образцу, но на все новые уряды могли назначаться только «fidei catholicae cultores et subjecti sanctae romanae ecclesiae».
Свидригайло… выступал против Польши, опираясь на аннексированные русские земли, на которые не распространялось действие привилеев 1387 и 1413 гг. Свидригайло, конечно, всячески покровительствовал русскому элементу, но этим была недовольна собственно Литва. Ее боярство из боязни наплыва русского элемента и потери своего правительствующего положения признало великого князя Сигизмунда. Обязанный престолом боярству он, конечно, будет опираться на литовский элемент в своей правительственной политике. Но польская дипломатия учла значение русского элемента в княжестве и в интересах давно лелеянной унии приступила к уравнению литовской и русской шляхты в правовом отношении.
Опубликованный Ягайлой в момент государственного переворота 1432 г. привилей уравнивал в правах литовскую и русскую шляхту, так как по смыслу привилея его действие распространялось на «predictos nobiles et bojaras Ruthenorum». Привилей 1432 г., не давая никаких новых прав в сравнении с Городельской хартией, разрешал русским брать гербы у литовцев, те самые гербы, которые они получили от поляков, а литовцам вменялось в обязанность принимать русскую знать в свои гербовые братства, по сношении с своими польскими одногербовцами.
Впрочем, для польской политики опубликованный привилей не мог иметь большого значения: его действие распространялось не на всю Русь, а только на Русь Литовскую, да к тому же пользование правами связывалось с принадлежностью к определенному вероисповеданию, которое среди русской шляхты XV в. еще было слабо распространено. Поэтому едва ли прав М.К. Любавский, рассматривая вышеприведенный привилей, как уравнение в правах русских без различия вероисповедания, с отменой соответствующих ограничительных статей Городельского привилея, касающихся вероисповедного вопроса. Только привилей 1563 г., изданный почти накануне Люблинской унии, отменил указанные ограничения.
С возведением на престол Сигизмунда вопрос об унии снова выдвигается на первый план и обе стороны в Городно [в 1437 г.] подписали новое унитарное соглашение, при участии литовских прелатов и панов, как и в 1413 г… Новая уния была делом рук литовского панства, боявшегося наплыва русского элемента, а следовательно, и потери приобретенного влияния. Сравнительно с условиями унии 1413 г. новый договор был менее выгоден литовскому боярству: в нем вопрос о литовской самобытности в сфере государственных отношений был связан с личностью Сигизмунда и носил, таким образом, временный характер, что являлось отчасти возвращением к условиям третьей литовско-польской унии. Это была измена национальному делу, но на нее литовская знать решилась ввиду исключительных обстоятельств, в целях подавления и унижения выступающего на историческую сцену русского элемента.
Новое подтверждение унии [в 1439 г.] было только повторением предшествовавших актов. Обе стороны выдали соответствующие документы, скрепленные подписями местных панов… Вслед за подписанием унии Сигизмунд опубликовал новый привилей, долженствующий привязать население к унии и великому князю. Несмотря на стремление примирить враждующее население, Сигизмунду достичь этого не удалось. Рознь католиков и православных, впервые введенная в жизнь привилеем 1413 г., была закреплена и новой хартией, польско-католической по духу.
Привилей 2 мая 1447 г. имел огромное значение и для политического строя Литвы и для унии… Нельзя видеть также отрицательное отношение к польскому влиянию в полном молчании привилея о православных. В то же время привилей посвятил ряд статей, трактующих о вольностях костелов и замещении в них пастырских должностей. Если же прибавить, что все статьи, изменяющие юридическое и экономическое положение шляхты, заимствованы из Польши, то в общем приходится признать, что привилей проникнут всецело польскими правовыми идеями и тенденциями. Несмотря на полное молчание статей привилея о правах православной шляхты, последняя на практике пользовалась всеми правовыми нормами, предоставленными католической шляхте, за исключением возможности занимать должности.
Недовольство было повсеместное, но особенно резко оно обнаружилось, когда вспыхнуло на юге движение М. Глинского [1508 г.], уже после смерти короля Александра. Население, вернее шляхта, была не только против политики магнатов, ее не могло не волновать, что все места в княжеской раде и по управлению государством попали в руки литовцев, которые не давали хода русскому элементу, основываясь на привилее 1413 г. Вот причины всеобщего недовольства.
Восстание Глинского интересно и с другой стороны, как верный показатель, насколько шляхта оценила выгоды польского права, как последствия литовско-польских уний. Выяснилось, что на тех землях, где преобладало мелкое и среднее землевладение, восстание не встретило поддержки. Все северо-западное земянство, уже окатоличенное и пользовавшееся привилеями, оставалось верно Сигизмунду. Наоборот, киевское земянство, на которое, как православное, польское право еще не вполне распространялось, поддержало Глинского.
Когда в 1547 г. на первом вальном сейме, бывшем при Сигизмунде-Августе, паны сейма, паны-рады и посольская изба обратились к господарю с просьбой, «зъласки и добротливости своей панской» «вказати» все права и вольности, пожалованные их господарям за их прежнюю и верную службу, то король сочувственно отнесся к просьбе станов сейма.
Давая согласие на подтверждение старых привилегий, Сигизмунд, впрочем, сделал большое отступление от обычаев предков. Он обещал подтвердить вольности «панов-рад обоего стану, духовного и светского, римского и греческого, княжат, панят и всего рыцарства».
Значение этого привилея огромно. Им окончательно уравнивалась в правах русская шляхта с литовской. Отныне принадлежность к православию не могла быть причиной непользования шляхетскими правами. Так пало правовое различие между католиками и православными. Впрочем, и этот привилей не отменил соответствующих статей Городельского привилея о праве только католиков занимать разные должности.
Если привилей 1547 г. отчасти сблизил русскую шляхту с польской, то привилей 1563 г., отменивший статьи Городельского привилея о предоставлении урядов и участия в раде господарской только католикам, превратил русскую шляхту в ярую сторонницу унии, столь благодетельной для шляхты. Отныне пользование шляхетскими правами соединялось с принадлежностью только к христианской религии.
Иными результатами кончился Виленский сейм 1563 г. Шляхта добилась отмены статей Городельского привилея, лишавших возможности некатолическую шляхту занимать различные государственные должности и заседать в панской раде.
В.И. Пичета. Литовско-польские унии и отношение к ним литовско-русской шляхты // Сборник статей, посвященных В.О. Ключевскому его учениками, друзьями и почитателями ко дню тридцатилетия профессорской деятельности в Московском университете. М., 1909. Цит. по: В.И. Пичета. Белоруссия и Литва XV-XVI вв. М., 1961. C. 529, 531, 532, 533, 535-536, 538, 543, 546
1623 г. – Из жалобы православной шляхты короны Варшавскому сейму на притеснения и преследования, чинимые католической и униатской церквами православному населению
Ясновельможный сенат! …Мы можем перечислить воеводства, поветы и города, в которых творится этот невыносимый произвол и несвойственное христианству притеснения нас, русского народа, хотя ваши вельможности, как начальники этих поветов и воеводств, сами изволите знать, что и в каком городе вершат владыки Руси – вероотступники. В Литве это – Вильно, Минск, Новогрудок, Гродно, Слоним, Брест, Браслав, Кобрин, Каменец и другие; на Подляшье – Бельск, Брянск, Дрогичин и т. д., в Полесье – Пинск, Овруч, Мозырь и т.д., на Волыни это – Владимир, Луцк, Кременец и т.д., в воеводстве Русском это – Львов, Перемышель, Самбор, Дрогобыч, Саноки т.д., в Белзском воеводстве это – Бела, Холм, Красный Став, Буск, Сокаль и т.д., в Понизовье –Кричев, Чечеренск, Пропойск, Рогачев, Гомель, Остр, Речица, Любеч и т.д., на Белой Руси это – Полоцк, Витебск, Мстислав, Орша, Могилев, Дисна и т.д. В большинстве из этих городов люди старого греческого вероисповедания, имеющие права, пожалованные их величествами королями Польскими и великими князьями Русскими и Литовскими, отстранены от городских ратушных должностей, исключены из ремесленных цехов, лишены церквей, воздвигнутых из камня и дерева их предками того же вероисповедания. Притом они испытывают невыносимые страдания, их заключают в тюрьмы, подвергают изгнанию, лишают должностей, наказывают штрафами, налагают аресты на имущество и придумывают всякие, какие только могут неприятности, надругательства и клевету.
И т.д.
Таким образом, в течение почти двух столетий, со второй половины XIV в. до второй половины XVI в., русская православная знать ВКЛ подвергалась последовательной законодательной дискриминации по сравнению с литовской католической знатью. Накануне объединения Великого княжества Литовского в единое государство с Короной Польской дискриминация была отменена в отношении православного шляхетства, однако она в полной мере сохранилась в отношении простолюдинов (т.е. абсолютного большинства православных русинов ВКЛ и РП). И после Люблинской унии любой незнатный православный русин на польско-литовских землях законодательно стоял ниже не только шляхты, но и любого еврея и татарина-мусульманина.
Сравним с Московским Царством, бывшим в подлинном смысле русским национальным государством, где только православные русины могли занимать государственные должности и в том числе избирать и избраться в национальный парламент – Земский собор.
Сторонники взгляда на ВКЛ как на «подлинное русское государство» обычно ссылаются на то, что большинство населения в нём составляли православные русины и на его русских землях продолжали действовать русские законы. Однако же и в ЮАР в эпоху апартеида большинство населения составляли чёрные, которые тоже жили по своему африканскому праву, но вряд ли кому-то в этой связи придёт в голову называть ЮАР эпохи апартеида государством чёрных африканцев.
Ссыль.
и
Верховный правитель Суздальской земли великий князь Юрий Всеволодович Владимирский погиб в сражении с татарами на реке Сить 4 марта 1238 г., в то время как Даниил Романович Галицкий бежал от татар осенью 1240 г. сначала в Венгрию, а потом дальше в Польшу, где оставался до 1242 г., пока татары не ушли из его земли. В 1245 г. Даниил отправился в Орду к Батыю, чтобы получить от него ярлык на галицко-волынские земли. В шатре Батыя он встал на колени перед татарским ханом, назвал себя его холопом и пил по его приказу кумыс. В 1259 г. галицко-волынские князья в знак союза с Ордой разрушили свои крепости. При этом Даниил из страха перед татарами снова бежал в Польшу, а потом в Венгрию.
Галицко-волынские князья утверждались татарскими ханами, чьё слово было решающим при занятии ими своих столов, как явствует из рассказа Ипатьевской летописи о споре между Мстиславом Даниловичем и Юрием Львовичем о наследии Владимира Васильковича. Галицко-волынские князья ездили в Орду – источники донесли до нас сведения о таких поездках Даниила Романовича, Льва Даниловича и Владимира Васильковича. Галицко-волынские князья платили дань татарам, о чём говорят многочисленные свидетельства – как местные, так и иностранные. Причём даже после перехода галицко-волынских земель под власть Польши в 1349 г. выплата с них дани в Орду не прекратилась, о чём свидетельствует, в частности, письмо римского папы Иннокентия VI польскому королю Казимиру III от 1357 г.
Галицко-волынские князья неоднократно участвовали в военных походах татар на европейские страны. Для сравнения, суздальские князья единственный раз приняли участие в татарском военном походе – зимой 1277-1278 г. на Кавказ, причём в этом походе не участвовали ни верховный правитель Суздальской земли – великий князь владимирский Дмитрий Александрович Переяславский, ни его союзник князь Даниил Александрович Московский, которые состояли в антитатарской коалиции, находившейся в состоянии войны с князьями, участвовавшими в походе 1277-1278 г. Напротив, в татарских походах на европейские страны принимали участие сами верховные правители Галицко-Волынской земли.
В 1258 г. татарский полководец Бурундай приказал Даниилу Галицкому идти с ним в поход на Литву. Испугавшись наказания со стороны татар, Даниил послал вместо себя к Бурундаю своего брата Василька, а сам пошёл на Литву отдельно и взял Волковыйск. О размахе этого татарско-галицкого похода сообщает Воскресенская летопись: «Того же лета взяша Татарове всю землю Литовскую» (ПСРЛ. Т. 7. С. 162). В 1259 г. последовал совместный татарско-галицкий поход на Польшу, во время которого был взят город Сандомир. Ипатьевская летопись стыдливо умалчивает об обстоятельствах его взятия, однако Великопольская хроника сообщает, что горожане сдали город, поддавшись на обман галицко-волынских князей.
Преемник Даниила Лев Данилович Галицкий участвовал по меньшей мере в семи татарских походах: в 1275 г. на Литву, в 1277-1278 г. на Литву, в 1280-1281 г. на Польшу, в 1285 г. на Венгрию, в 1286 г. на Польшу, в 1287 г. на Польшу и в 1300 г. на Польшу.
В 1277 г. галицко-волынские князья признали над собой верховную власть Ногая, правившего западными улусами Орды. В 1299-1300 гг. между Ногаем и ханом Тохтой разгорелась война за власть, в ходе которой войсками Тохты был убит сторонник Ногая киевский князь Владимир Иванович, а Киев разгромлен. В этой войне галицко-волынский князь Юрий Львович выступил на стороне хана Тохты, за что получил от него ярлык на Киев. Вслед за этим Юрий Львович принял титул «короля Руси», в 1303 г. создал собственную Галицкую митрополию (просуществовавшую до 1347 г.), а в 1305 г. добился утверждения киевским митрополитом своего ставленника Петра. В 1302 г. Юрий Львович с татарским войском совершил поход на Сандомирщину против польского короля Вацлава II.
В 1323 г. погибли сыновья Юрия Львовича Андрей и Лев II (по сообщениям белорусско-литовских летописей, на войне с Гедимином), после чего галицко-волынские земли на некоторое время перешли под непосредственное управление двух татарских баскаков. Одновременно за них развернулась война между Польшей и Литвой. В 1324 г. противоборствующие стороны пришли к соглашению, по которому правителем Галицко-Волынского княжества стал ставленник хана Узбека Болеслав-Юрий II Тройденович, продолжавший выплачивать Орде ежегодную дань.
В правление Болеслава-Юрия (1324-1340) отмечается участие галицко-волынских войск в походе татар на Польшу в 1325 г., неоднократных походах на Венгрию в 1330-х гг. и походе на Польшу в 1337 г. В то же время он пытался проводить прозападную, прокатолическую политику, из-за которой в 1340 г. был отравлен протатарски настроенными галицко-волынскими боярами.
В ответ на попытку польского короля Казимира III захватить Галицко-Волынское княжество вожди местной протатарской партии перемышльский боярин Дмитрий Дядько и волынский князь Даниил Острожский обратились за помощью к хану Узбеку, который предоставил им огромное войско для вторжения в Польшу. Это вынудило римского папу Бенедикта XII призвать епископов Польши, Чехии и Венгрии проповедовать крестовый поход против татар и галичан, а Казимира III просить помощи у князей Мазовии, Карла-Роберта Венгерского и германского императора Людовика. В конце июля 1340 г. татары вместе с галицко-волынскими отрядами вторглись в Польшу, но объединенному европейскому рыцарскому войску во главе с Казимиром III удалось совершить чудо на Висле – заняв оборону на правом берегу реки, оно не позволило врагам через неё переправиться. Татары с галичанами почти месяц разоряли Привисленский край, но после неудачной осады Люблина вынуждены были уйти.
После этого правителем Волыни стал литовский князь Любарт-Дмитрий, а в Галицкой земле утвердилась боярская олигархия во главе с его наместником Дмитрием Дядько («управителем или старостой Русской земли» до 1344/47 г.). В 1349 г. Казимир III вновь перешёл в наступление, захватив почти все галицко-волынские земли кроме Луцка, но в 1350 г. литовцам удалось отвоевать Волынь. В 1352 г. татары открыто встали на сторону Литвы (Dlugosz J. T. 5. Ks. 9. S. 337-338: приглашённая Ольгердом большая орда напала на «подчиненное Польскому королевству Подолье»), после чего Казимир вынужден был заключить (при непосредственном участии ордынской дипломатии и с санкции хана Джанибека) договор с Ольгердом, по которому Польша получила Галицкую землю и часть Подолья, а Литва – Волынь и Берестье. Среди прочих, этот договор включал условие: «Аже поидуть та[та]рове на ляхы, тогды руси неволя поити ис татары», свидетельствующее о том, что и после раздела между поляками и литовцами галицко-волынских земель их верховными правителями по-прежнему признавались татары.
И поидоша безбожнии татарове на Сить противу великому князю Гюргю. Бяхуть бо преже прислали послы свое злии ти кровопийци, рекуще: «Мирися с нами». Он же того не хотяше, яко же пророкъ глаголет: «Брань славна луче есть мира студна». Си бо безбожнии со лживым миром живуще велику пакость землям творять, еже и зде многа зла створиша. Слышав же князь Юрги с братом своимъ Святославом, и с сыновци своими Василком, и Всеволодом, и Володимером, и с мужи своими, поидоша противу поганым. И сступишася обои, и бысть сеча зла, и побегоша наши пред иноплеменникы. И ту убьенъ бысть князь Юрьи, а Василка яша руками безбожнии и поведоша в станы свое. Се же зло здеяся месяца марта въ 4 день, на память святою мученику Павла и Ульяны. И ту убьенъ бысть князь великый Юрьи на Сити на реце, и дружины его много убиша. Блаженый же епископъ Кирилъ взя князя мертва, иды из Белаозера и принесе и в Ростовъ. И певъ надъ ним обычныя песнь, со игумены, и с клирошаны, и с попы со многами слезами вложиша и в гробъ у святое Богородици. Богъ бо казнить напастми различными, да явяться яко злато искушено в горниле – христьяном бо многыми напастми внити в царство небесное. Сам бо Христосъ Богъ: «Нужно е царство небесное, и нужници въсхытают е». Георгие, мужьство тезоимените, кровью омывъся страданья ти! Аще бо не напасть, то не венець, аще не мука, ни дарове.
ЛАВРЕНТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
Преже того [нашествия Батыя] ехалъ бе Данило князь ко королеви Угры, хотя имети с ним любовь сватьства, и не бы любови межи има. И воротися от короля и приеха въ Синеволодьско во манастырь святыя Богородица. Наутрея же воставъ виде множество бежащих от безбожных татаръ и воротися назадъ Угры. Не може бо проити Руское земли, зане мало бе с нимь дружины. Иде изо Угоръ во Ляхы на Бардуевъ и приде во Судомирь. Слыша о брате си и о детех и о княгини своей, яко вышли суть из Руское земле в Ляхы предъ безбожными татары, и потосьнуся взискати ихъ, и обрете ихъ на реце рекомей Полце, и возрадовашася о совокупьленьи своемь, и жалишаси о победе земле Руское и о взятьи град от иноплеменьникъ множьства. Данилови же рекшу, яко: «Не добро намъ стояти сде близъ воюющих нас иноплеменьникомъ!» Иде в землю во Омазовьскую ко Болеславу Кондратову сынови. И вдасть ему князь Болеславъ град Вышегородъ. И бысть ту, дондеже весть прия, яко сошли суть и земле Руское безбожнии.
ИПАТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
1245 г.
Бывшу же князю [Даниилу Галицкому] у них [татар] дний 20 и 5, отпущенъ бысть, и поручена бысть земля его ему, иже беаху с нимь.
ИПАТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
1287 г.
Посла богъ на насъ мечь свой, иже послужить гневу своему за умножение греховъ нашихъ. Идущу же Телебузе и Алгуеви с нимь в силе тяжьце, и с ними русцеи князи Левъ и Мьстиславъ, и Володимеръ, и Юрьи Лвовичь, инии князи мнозии. Тогда бяхуть вси князи русции в воли татарьской, покорени гневомь божиимъ. И тако поидоша вси вкупе. Володимеру же князю болну сущу, зане бысть рана послана на нь от бога неисцелимая. Идущимъ же имъ в ляхы, и доидоша рекы, нарецаемаго Сана, Володимеръ же князь, сотьснувъси немощью тела своего, и нача слати ко брату своему Мьстиславу, тако река: «Брате, видишь мою немощь, оже не могу, а ни у мене детий. А даю тобе, брату своему, землю свою всю и городы по своемь животе. А се ти даю при царихъ и при его рядьцахъ... И посемь посла Мьстиславъ ко брату ко Лвови, и ко сыновцю своему, тако река: «Се же, брате мой, Володимиръ далъ ми землю свою всю и городы. А чего восхочешь? Чего искати по животе брата моего и своего, осе же ти цареве, а се царь, а се азъ. Молви со мною, што восхочешь». Левъ же не рече противу слову ничегоже.
ИПАТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
1289 г.
И посла [Мстислав] послы ко сыновцю своему, тако река: «Сыновче, оже бы ми ты не былъ на томъ пути и не слышалъ ты, но ты самъ слышалъ гораздо и отець твой, и вся рать слышала, оже братъ мой Володимиръ дал ми землю свою всю и городы по своемь животе, при царехъ и при его рядцяхъ, а вамъ поведалъ, а я поведал же. Аже чего еси хотелъ, чему есь тогда со мною не молвилъ при царехъ? А повеж ми, то самъ ли есь в Берестьи селъ своею волею, ци ли велениемь отца своего, а бы мь ведомо было. Не на мя же та кровь будеть, но на виноватомъ, а по правомъ богъ помощник и хрестъ честный. Я же хочю правити татары, а ты седи. Аже не поедешь добромъ, а зломъ пакъ поедешь же». Посемь посла ко брату своему ко Лвови епископа своего володимерьского, река ему: «Жалую, – рци, – богу и тобе, зане ми – рци – есь по бозе братъ ми есь старейший. Повежь ми, брате мой, право, своею ли волею сынъ твой селъ в Берестьи, ци ли твоимъ повелениемь? Оже будеть твоимъ повелениемь се учинилъ, се же ти поведаю, брате мой, не тая: послалъ есмь возводить татаръ, а самъ пристраваюся, а како мя богъ расудить с вами, а не на мне та кровь будеть, но на виноватомъ, но на томъ, кто будеть криво учинилъ». Левъ же убояся того велми, и еще бо ему не сошла оскомина Телебужины рати, и рече епископу брата своего: «Сынъ мой – рци – не моимъ веданиемь се учинилъ, то одинъ богъ ведаеть, но своемь молодымъ умомъ учинилъ, осемь, – рци – брате мой, не печалуй, шлю я к нему, ать поедеть вонъ из города сынъ мой». Епископъ же приеха ко Мьстиславу и нача поведати речь братну. Мьстиславу же любо бысть то. Посем же Мьстиславъ вборзе посла гонце по Юрьи князи Пороскомъ, веля воротити и назадъ, послалъ бо бяшеть возводить татаръ на сыновця своего. Тогда бо Юрьи Пороский служаше Мьстиславу, а первое служилъ Володимиру. Се же услышавъ, Левъ князь посла Семена своего дядьковича ко сынови своему с прочними речьми, река ему: «Поедь вонъ из города, не погуби земле, братъ мой послалъ возводить татаръ…
ИПАТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
Даниил в 1246 г.
Приславшу же Могучееви посолъ свои к Данилови и Василкови, будущю има во Дороговьскыи: «Дай Галич», бысть в печали велице, зане не утвердилъ бе земле ее городы. И думавъ с братомъ своимъ и поеха ко Батыеви река: «Не дамъ полу отчины своей, но еду к Батыеви самъ». Оттуда же приде к Батыеви на Волгу. Хотящу ся ему поклонити, пришедшу же Ярославлю человеку. Сънъгурови, рекшу ему: «Брат твои Ярославъ кланялъся кусту и тобъ кланятися». И рече ему: «Дьяволъ глаголеть из устъ ваших. Богъ загради уста твоя и не слышано будеть слово твое». Во тъ час позванъ Батыемь, избавленъ бысть богомъ и злого их бешения и кудешьства. И поклонися по обьчаю ихъ, и вниде во вежю его. Рекшу ему: «Данило, чему еси давно не пришелъ? А ныне оже еси пришел – а то добро же. Пьеши ли черное молоко, наше питье, кобылий кумузъ?» Оному же рекшу: «Доселе есмь не пилъ. Ныне же ты велишь – пью». Он же рче: «Ты уже нашь же тотаринъ. Пий наше питье». Он же испивъ поклонися по обычаю ихъ, изъмолвя слова своя, рече: «Иду поклониться великой княгини Баракъчинови». Рече: «Иди». Шедъ поклонися по обычаю. И присла вина чюмъ и рече: «Не обыкли пити молока, пий вино». О злее зла честь татарьская! Данилови Романовичю, князю бывшу велику, обладавшу Рускою землею, Кыевомъ и Володимеромъ и Галичемь со братомъ си, инеми странами, ньне седить на колену и холопомъ называеться! И дани хотять, живота не чаеть. И грозы приходять. О злая честь татарьская! Бывшу же князю у них дний 20 и 5, отпущенъ бысть, и поручена бысть земля его ему, иже беаху с нимь.
ИПАТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
Лев в 1280 г.
По смерти же великаго князя Болеслава не бысть кто княжа в Лядьской земли, зане не бысть у него сына. И восхоте собе Левъ земле, но бояре, бяхуть силнии, не даша ему земле… Посем же Левъ восхоте собе части в земле Лядьской, города на въкраини. Еха к Ногаеви оканьному проклятому помочи собе прося у него на ляхы. Онъ же да ему помочь оканьнаго Кончака, и Козея, и Кубатана.
ИПАТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
Владимир Василькович в 1286 г.
В лето (1286) списан бысть сеи монаканон боголюбивым князем владимирским сином Васильковим, внуком Романовым и боголюбивою княгинею его Ольгою Романовною. Аминь, рекше конец. Богу нашему слава во веки. Аминь. Пишущим же нам сии книгы. Поеха господин наш к Ногаеви, а госпожа наша остала у Володимири.
ВОЛЫНСКАЯ КОРМЧАЯ КНИГА ПО АРАДСКОМУ СПИСКУ
1245 г.
О злее зла честь татарьская! Данилови Романовичю, князю бывшу велику, обладавшу Рускою землею, Кыевомъ и Володимеромъ и Галичемь со братомъ си, инеми странами, ньне седить на колену и холопомъ называеться! И дани хотять, живота не чаеть.
ИПАТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
1287 г. Завещание Владимира Васильковича
Се язъ, князь Володимеръ, сынъ Василковъ, внукъ Романовъ, пишу грамоту. Далъ есмь княгине своей по своемь животе городъ свой Кобрынь, и с людми и з данью. Како при мне даяли, тако и по мне ать дають княгине моей. Иже дал есмь ей село свое Городелъ и с мытом, а людье, како то на мя страдале, тако и на княгиню мою по моемь животе. Аже будеть князю городъ рубити, и они к городу, а поборомъ и тотарьщиною ко князю.
ИПАТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
«Описание Восточной Европы» анонимного автора, совершившего в 1308 г. путешествие из Константинополя в Польшу:
Рядом с этим царством [Болгарским] находится и другая огромная страна, которая называется Русью… Условия в этой стране такие же, как в Болгарии, и она орошается теми же реками, но вместо царей в ней правит князь множества людей, которого зовут князь Лев. Дочь этого князя Льва взял в жены король Венгрии Карл. Некогда эта страна управлялась Империей, потом Венгрией, а теперь она является данницей татар, как и Болгария. Все эти народы – раскольники, вероломные, имеющие собственный язык
Anonymi descriptio Europae Orientalis “Imperium Constantinopolitanum, Albania, Serbia, Bulgaria, Ruthenia, Ungaria, Polonia. Bohemia”. Cracoviae, 1916. P. 40-41
Письмо польского короля Владислава Локетка папе Иоанну XXII от 21 мая 1323 г.:
С прискорбием сообщаем Вашему Святейшеству, что два последних князя русинов из рода схизматиков, которые были для нас несокрушимым щитом против жестокого народа татар, покинули этот мир. В связи с их кончиной мы опасаемся несказанных бед для нас и наших земель по причине соседства с татарами, которые, мы уверены, захватят смежную с нами землю русинов, с которой они по обычаю собирают ежегодную дань, если только нас не спасут всемогущество Божие и ваша милость.
Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси: Сборник материалов и исследований. СПб., 1907. С. 152
Согласно свидетельствам немецких источников, татарский хан признавал Галицко-волынскую землю «данницей своей и своих прародителей» (tanquam sibi et suis progenitoribus censuale) (Font. Rer. german. I, 433), галицко-волынские князья были для него «данниками» (tributarii) (Cod. dipl. Prussiae III, 21).
Цит. по: Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси: Сборник материалов и исследований. СПб., 1907. С. 111
Булла папы Иннокентия VI польскому королю Казимиру III от февраля 1357 г.:
Магистр и братья дома святой Марии Немецкой в Иерусалиме жалуются нам на то, что ты без всякой разумной причины, желая нанести им вред и разорить их землю, заключил договор и союз с неверными литовцами, величайшими врагами названного магистра, братьев и католической веры, а также магистру и братьям стало известно, что ты заключил договор и союз с врагами веры татарами, которые некогда в огромном множестве вторглись в Венгерское королевство и разорили его значительную часть, обязавшись платить хану татар ежегодную дань за определенную часть земли схизматиков-русинов, которую ты завоевал ценой крови множества христиан…
Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae. Romae, 1860. № 776. P. 581
В 1356 г. письме к гофмейстеру Тевтонского ордена Книпроде Казимир III сообщал, что для участия в его походе на литовцев к нему прибывают «семь татарских князей со множеством людей» и он им «как раз теперь послал особую дань за набег».
Codex diplomaticus Prussicus. Ed. J. Voight. T. 3. № 83. S. 107
Открытый переход Орды на сторону Ольгерда существенным образом изменил соотношение борющихся сил. Осознав бесперспективность продолжения борьбы при таком обороте дел, Казимир в 1352 г. пошел на компромисс с Ольгердом. В силу достигнутого соглашения Галицко-Волынская Русь была разделена между польским королем и литовским князем. Казимир получил земли Люблинскую и Галицкую, Ольгерд оказался обладателем Владимира, Луцка, Белза, Холма, Берестья. Нетрудно видеть, что в подготовке этого соглашения активную роль сыграла ордынская дипломатия, что условия компромисса были не только во многом подготовлены ордынской державой, но, возможно, и дипломатически санкционированы самим ханом Джанибеком в 1352 г.
И.Б. Греков Восточная Европа и упадок Золотой Орды. М., 1975. С. 53
Открытый переход Орды на сторону Литвы весной 1352 г. в корне изменил соотношение сил в польско-литовском конфликте, заставил польского короля отказаться от продолжения военных действий и уже осенью того же года пойти на компромисс с Гедиминовичами. По соглашению 1352 г. Галицко-Волынская Русь была разделена между Казимиром III и великим князем литовским Ольгердом. Польскому королевству досталась Галицкая земля и часть Подолья, а Великому княжеству Литовскому – Волынь с городами Владимиром, Луцком, Белзом и Холмом, а также Берестейская земля. Правдоподобно, что польско-литовское соглашение, надвое разделившее в политическом отношении Галицко-Волынскую Русь, было достигнуто при непосредственном участии ордынской дипломатии и с санкции ханской власти.
Ф.М. Шабульдо. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Киев, 1987
www.krotov.info/lib_sec/25_sh/sha/buldo_02.htm
Сутністю кондомінімуму, що постав внаслідок компромісу між правлячими династіями конкуруючих на теренах України держав, була згода польських П’ястів і литовських Гедиміновичів на сплату Джучидам щорічної данини з українських земель, інкорпорованих до складу Польщі і Великого князівства Литовського. Кондомініум як тимчасове історичне явище деякі українські землі мали в 1325-1362 роках. Його існування зумовлювалося несталою рівновагою у відносинах між головними політичними силами тодішньої Східної Європи – панівною у регіоні Золотою Ордою, котра через зростання відцентрових тенденцій у суспільно-політичному житті й тривалі та спустошливі війни з Іраном Халугідів не була в змозі використати увесь свій великий потенціал проти Литви, Польщі і союзної з нею Угорщини, коли ці швидко міцніючі держави розпочали експансію на залежні від Орди Волинь, Галицьке князівство, Поділля та Київщину. Певні ознаки кондомініуму на українських землях зазначив ще М. Грушевський. (Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. 4. – С. 83, 312).
Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі? (до постановки проблеми)
www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/7.pdf
Таким образом, в течение всего столетия существования Галицко-Волынского княжества после нашествия Батыя оно находилось в теснейших отношениях зависимости от Орды. Эти отношения зависимости сохранились и после исчезновения в галицко-волынских землях в середине XIV в. собственной государственности. Польско-литовское завоевание привело к установлению кондоминиума, при котором поляки и литовцы непосредственно управляли соответственно Галицкой и Волынской землями, продолжая признавать над ними верховную власть Орды и выплачивать ей дань. Ни о каком «европейском» выборе галицких князей, противоположном «евразийскому» выбору князей суздальских, говорить не приходится. Галицко-Волынское княжество находилось не в более слабой, а в более сильной зависимости от Орды, чем Владимиро-Суздальское княжество. Поэтому если какие-то из русских князей и сделали ордынский выбор, то это были галицкие князья.
Ссыль.
@темы: чужое, история, Речь Посполитая, хистори-копилка, украиноведение, Улус Джучи